«Душа у меня лежит к листу, а не к компьютеру»
- 20.05.2025
Профессор Владимир Николаевич Байер был выдающимся физиком-теоретиком и одним из основателей школы теоретической физики Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Сегодня его ученики занимаются проведением фундаментальных научных исследований в области физики элементарных частиц (ФЭЧ), а также развитием и применением методов теоретической физики в космологии. Один из новеньких теоротдела ИЯФ СО РАН – магистрант первого года Физического факультета Новосибирского государственного университета (ФФ НГУ) Семён Сорокин в 2024 г. стал лауреатом стипендии им. В.Н. Байера. В интервью Семён рассказал, как проходит отбор в физики-теоретики, когда не стоит браться за расчеты и почему физикам полезно играть на фортепиано.
– Любовь к физике – как и когда она зарождается?
– Я лет с четырех смотрел передачу «Во Вселенную со Стивеном Хокингом» по каналу Discovery – с открытым ртом и в полном восторге. Мне все это жутко нравилось и казалось невероятным, уже тогда мне хотелось ко всему этому приобщиться. Помню, как услышал термин «квантовая физика» и полез гуглить. Прочитал статью на Википедии, ничего не понял, но упорно перечитывал – так меня все это будоражило. Как-то так все это и сложилось, само собой, на пустом месте. Никто из родителей или родственников у меня не имеет отношения к науке, поэтому интересы сложились не под чьим-то влиянием – такое самобытное желание приобщиться к физике.
– Известный триумвират Академгородка: ФМШ, НГУ, ИЯФ. Расскажи, а каким был твой путь от школы до работы?
– Я учился в двух школах и открою секрет, не поступал в ФМШ. Первые девять лет я провел в Педагогическом лицее им. А. С. Пушкина. Забегая вперед, скажу, что это образование дало мне очень много полезного, ведь в обязанности ученых входит не только совершение открытий и создание чего-то нового, но и обучение следующих поколений. И уже на втором курсе НГУ у меня появилось желание кого-то чему-то учить. Для меня это случилось незаметно, но, полагаю, все это было заложено лицейскими преподавателями. В НГУ, кстати, у нас был курс по методам преподавания физико-математических дисциплин. Несколько семинаров в рамках этого курса провела как раз моя учитель педагогики из лицея – это была такая удивительная встреча через несколько лет, которая показала мне, что мою тягу к преподаванию заложили в меня еще тогда. Так что я очень надеюсь, что в следующем году или уж точно в аспирантуре начну вести семинары по методам математической физики.

Старший лаборант ИЯФ СО РАН Семен Сорокин. Фото Т. Морозовой.
А вот в 10-11 классе я учился в Инженерном лицее НГТУ. Там я получил серьезное физико-математическое образование. Мой путь физика-теоретика начался именно с той математики, которую вела у нас Татьяна Александровна Козлова. Ее преподавательский подход привил мне любовь к строгости и точности не только в математических и физических формулировках, но и в жизни. Благодаря ей я уже в школе чувствовал себя человеком, изучающим математику вузовского уровня – лекции и семинары, все как в НГУ на первом курсе.
ФМШ, НГУ и ИЯФ – это действительно такой триумвират. Но я в физико-математической школе не учился и даже не поступал, а выбрал Инженерный лицей. Еще будучи школьниками Педагогического лицея, мы ездили в ИЯФ на экскурсию, а также я по собственной инициативе в 9 классе сходил на День открытых дверей в НГУ. Я помню, что нам рассказывали про то, как живет Физический факультет, как он связан с Академгородком, с российской и мировой наукой – это было очень интересно, и тогда я окончательно понял, что хочу заниматься физикой элементарных частиц в ИЯФ. Для этого мне нужно было сменить Педагогический лицей на что-то физико-математическое. И тут я должен ввести в свой рассказ еще одного героя – моего репетитора, а лучше даже сказать, наставника, Александра Викторовича Костина. С 7 по 11 класс он формально был моим репетитором по математике, но на самом деле был моим наставником и вдохновителем. Потихоньку, вытягивая меня с четверки на пятерку по математике, он дотянул меня до науки. Когда встал вопрос, а куда идти и где оканчивать 10-11 класс, я посоветовался с ним. По его мнению, в ФМШ есть дополнительные сложности, не связанные с физикой и математикой, например, там очень углубленно изучается биология и химия. И он предложил в качестве альтернативы Инженерный лицей НГТУ, сказав, что в качестве физического и математического образования он не проигрывает, но зато будет меньше нагрузки по непрофильным предметам. К тому же я городской, привык жить в Новосибирске, а ездить туда-сюда, или жить в общежитии – это дополнительные изменения в привычной обстановке, которые, быть может, не так и необходимы.
– Сложностей на первом курсе НГУ, во всяком случае с математикой, ты не испытывал, а чем еще запомнился этот важный в жизни любого студента период?
– В школе у нас действительно все было серьезно, как в НГУ на первом курсе, поэтому проблем у меня никаких не было, и стресса от новой обстановки я тоже не испытывал. Но кардинально все поменялось в конце сентября – до нас добралась пандемия коронавируса, и мы ушли на дистанционное обучение. Так что в сентябре мы походили в НГУ, запомнили, как он выглядит, а потом до января уже не приходили. Но это тоже был интересный опыт, такое образование будущего – сидишь дома и работаешь.
– Понравилось учиться в таком формате или вживую всё же лучше?
– Недавно с подругой как раз вспоминали период, когда мы уже вышли с дистанционки, но часть преподавателей еще читали лекции удаленно. И я понял, что для меня нет большой разницы, стоит ли преподаватель передо мной в аудитории и пишет формулы на доске, или я вижу его по видео и он пишет стилусом на экране. Но всё же мне кажется, что удалёнка была сложнее: работать приходилось много и постоянно. Условно говоря, когда ты сидишь на семинаре в аудитории, у тебя могут не успеть проверить домашнее задание или можно просто отмолчаться. Это, конечно, не про меня, я молчать не люблю, но возможность такая существует. А вот на дистанционном обучении её нет, там всё предельно просто: есть задание, выполнил – сфотографировал, и сам факт того, что фотография не отправлена, достаточно заметен. Поэтому приходилось делать всё, сидел практически безвылазно тогда. Так что это была несколько усложнённая версия первого курса. Но, что примечательно и важно, наше образование от этих переходов никак не пострадало. Намного хуже пришлось тем, кто в это время заканчивал 10-11 класс и тем, кто только пошёл в школу. Система дистанционного образования в школе не успела быстро превратиться в отлаженный механизм, поэтому выпускники прошли не весь материал перед выпускными экзаменами и вступительными, а у первоклашек вообще сплошные трещины и пробелы в том образовательном фундаменте, который закладывается в начальной школе.
– Какие предметы у тебя были любимыми и почему?
– В первом семестре первого курса механику у нас вела одна из сотрудниц ИЯФ СО РАН – Татьяна Александровна Харламова. Вела прекрасно, было очень интересно, и как раз на этом предмете начали встречаться задачи с частицами, что для меня стало триггерной точкой. Случилось так, что наша первая сдача месячных заданий по этому предмету совпала со сдачей методов математической физики (ММФ) у третьекурсников – принимала у всех у нас Харламова. И вот там я услышал термин «матричная экспонента», глаза округлились – я, конечно, еще ничего про это не знал, мы не проходили, поэтому после сдачи расспросил Татьяну Александровну и понял, что ММФ будет моим любимым предметом. Так и случилось. И, конечно, квантовая механика. Оба эти предмета специализированные для кафедры физики элементарных частиц и самые необходимые для теоретической физики. Методы математической физики – это то, чем мы постоянно оперируем в своей работе, и сами основы в виде механики тоже, конечно, необходимы. Эти два предмета шли рука об руку два семестра, весь третий курс. И это действительно были самые полезные, самые интересные и самые серьезные предметы – вот именно их я бы хотел вести в будущем.
– Физики-теоретики – это же в хорошем смысле каста Института. Как ты в нее попал?
– Да, вот я так всегда и говорю – каста ИЯФа (смеется). Но, правда, теоретическая физика – не для всех. Но всем и не надо. А начинается все буквально с отбора. И такого жесткого отбора, как в теоротдел, в ИЯФе больше нигде, кажется, не ведется.
Когда я поступил в НГУ, я уже знал, что пойду на кафедру ФЭЧ. Но несмотря на то, что у меня были какие-то внутренние желания, тяготения в сторону теоретической физики, я все же не был до конца уверен, чем конкретно хочу заниматься – мне просто хотелось быть связанным с частицами, с самыми основами мироздания. Когда пришло время выбирать тему для первой кафедральной курсовой работы и искать научного руководителя, я выбрал экспериментальную физику. И вынужден сказать, что за тот семестр я каких-то особенных успехов не добился, зато я понял, что мне не близка выбранная специфика работы. Анализ данных, связанный с постоянной работой за компьютером, мне плохо давался. Программирование – это вообще моя слабая сторона. В общем, я понял, что стопорюсь на самом начальном этапе, техническом, и до экспериментальной физики просто не дохожу.
Во втором семестре третьего курса к нам на семинар по квантовой механике пригласили Петра Александровича Крачкова (моего нынешнего научного руководителя). Он пришел и попросил поднять руки тех, кто хочет проходить практику в теоретическом отделе ИЯФ. Я поднял руку сразу, мгновенно. Нас таких было три человека. Мы пришли и начался отборочный этап. В течение всего этого семестра Петр Александрович давал нам разные задачки, чтобы проверить наши знания физики и математики, достаточны ли они для того, чтобы заниматься теоретической физикой. Чтобы стать полноценным сотрудником теоротдела нужно уже на третьем курсе знать то, что по программе еще не проходят, то есть прыгнуть выше головы – самостоятельно пройти программу на несколько курсов вперед, при помощи научных руководителей освоить материал хотя бы до какого-то уровня, чтобы написать приличную дипломную работу. И это уже очень большие требования к студентам, которые хотят заниматься теоретической физикой в будущем.
По-моему, Спартак Тимофеевич Беляев говорил, что физики-теоретики должны прорастать как трава сквозь асфальт. Действительно, это должно быть испытание, через которое нужно пройти, чтобы сюда попасть и здесь удержаться. Так получилось, что нас всех троих оставили, видимо, мы адекватно оценивали свои способности. Нам предложили выбрать себе научных руководителей, я понял, что хочу остаться у Крачкова. Мне близко то, чем он занимается – аналитические вычисления. Это последовательный вывод физически наблюдаемых величин, который можно проделать с помощью программ символьных вычислений или даже руками на бумаге. И, в конце концов, выразить ответ в виде конечных формул, даже если они будут во много-много строчек. Это не похоже на то программирование, о котором я говорил выше. Душа у меня не лежит к компьютеру, душа лежит к листу, скажем так. И тут я понял, что в этом я преуспею, потому что мне это интересно, мне будет приятно этим заниматься. Вообще, я считаю, что если тебе нравится то, чем ты занимаешься, то ты обязательно достигнешь в этом успеха. Мне кажется, это непреложное правило. Это прямое следствие. Бывают случаи, что тебе не нравится, но ты достигаешь успеха, а вот, если тебе нравится и ты не достигаешь успеха – то это надо сильно много лениться. Здоровое трудолюбие и желание работать – это ключ к успеху!
– Расскажи над чем ты сейчас работаешь?
– Начну немного издалека. Один из самых известных приближённых методов в квантовой электродинамике называется приближением мягких фотонов. Он позволяет связать сечения процессов с излучением произвольного числа низкоэнергетических (мягких) фотонов и без излучения с помощью относительно простой формулы. Очень полезное и активно используемое приближение. Но существуют задачи, в которых процессы КЭД происходят во внешних полях, например, в поле атома или в лазерном поле. Для лазеров всё особенно интересно, если их поля очень сильные. А эксперименты с очень мощными лазерами сейчас активно ставятся и теоретические работы в этой области весьма востребованы. В 2023 году мой научный руководитель опубликовал работу о мягкофотонном приближении в сильных лазерных полях. Там подробно расписан случай излучения одного фотона, а излучение нескольких фотонов обсуждается только на качественном уровне. Так вот, нашей текущей задачей является подробное количественное излучение процессов с излучением многих фотонов. Это важная работа, которая, полагаю, выльется в мою магистерскую диссертацию.
– Какими качествами должен обладать физик-теоретик, чтобы преуспеть в своей работе?
– Все теоретики, которых я знаю, криком кричат – надо уметь оценивать. За пять минут на бумажке накидать, пренебрегая всеми сложностями вычислений, несущественными константами и посмотреть, какого порядка будет эффект – если эффект можно зарегистрировать хотя бы на уровне полпроцента-процент, то вперед, а если, как говорит нынешний заведующий теоротделом Александр Ильич Мильштейн, получается 10– 666, тогда делайте что-нибудь другое.
Но это все во вторую очередь, потому что в первую – у физика-теоретика должен быть широкий научный кругозор, он должен много читать. Один из курсов на ФФ у нас вел Александр Евгеньевич Бондарь, и вот он как-то сказал очень грамотную вещь – возьмите себе за правило каждое утро открывать Arxiv и, хотя бы просто просматривать названия заголовков статей, которые вышли по вашей теме. За что глаз зацепится, открывайте и читайте. Так вы узнаете, что происходит, и, возможно, выцепите актуальную задачу, которую нужно бежать решать. Так можно стать первым. Это правило работает и для экспериментаторов. Надо понимать, где сейчас передний край науки, что он из себя представляет.
И третий пункт, в котором я снова процитирую Александра Ильича: «Можно потратить полчаса и получить ответ с точностью 10%, а можно потратить 20 лет своей жизни и получить ответ с точностью 5%». Эта фраза очень грамотная, она говорит нам о том, что за незначительное улучшение точности тратить на порядки больше времени не продуктивно.
– Что самое сложное в теоретической физике и что самое привлекательное в ней?
– Ответственность и самостоятельный выбор – самая большая сложность в теоретической физике. Но зато ты ни к чему не привязан: тебе достаточно иметь ручку и листочек (можно ноутбук), ну еще рабочий стол для удобства. А можешь лежать на диване. Ландау, насколько мне известно, мог весь день лежать на диване, что-то записывать на листочках и при этом вносить огромный вклад в развитие науки.
– Если вернуться к переднему краю науки – где он сейчас? Каких человечеству ждать открытий от ученых в ближайшие 10, 50, 100 лет?
– Отвечая на этот вопрос, стоит разделить фундаментальные научные результаты от тех, что ближе к инженерно-техническим. Как раз вторые больше всего и будоражат общественное сознание. Если вдруг откроют пятое взаимодействие, никто от этого в мире, кроме физиков, даже не чихнет, а вот если начнут штамповать термоядерные реакторы по всему миру – вот это да. Так что управляемый термоядерный синтез – уже много лет передний край науки, и я очень жду, когда его запустят. Если продолжать размышлять на тему инженерно-технических прорывов, то я считаю, что самое большое достижение XXI в. – это реакторы на быстрых нейтронах. Реакторы, которые работают на отработанном ядерном топливе, Белоярская АЭС – это то, за чем будущее.
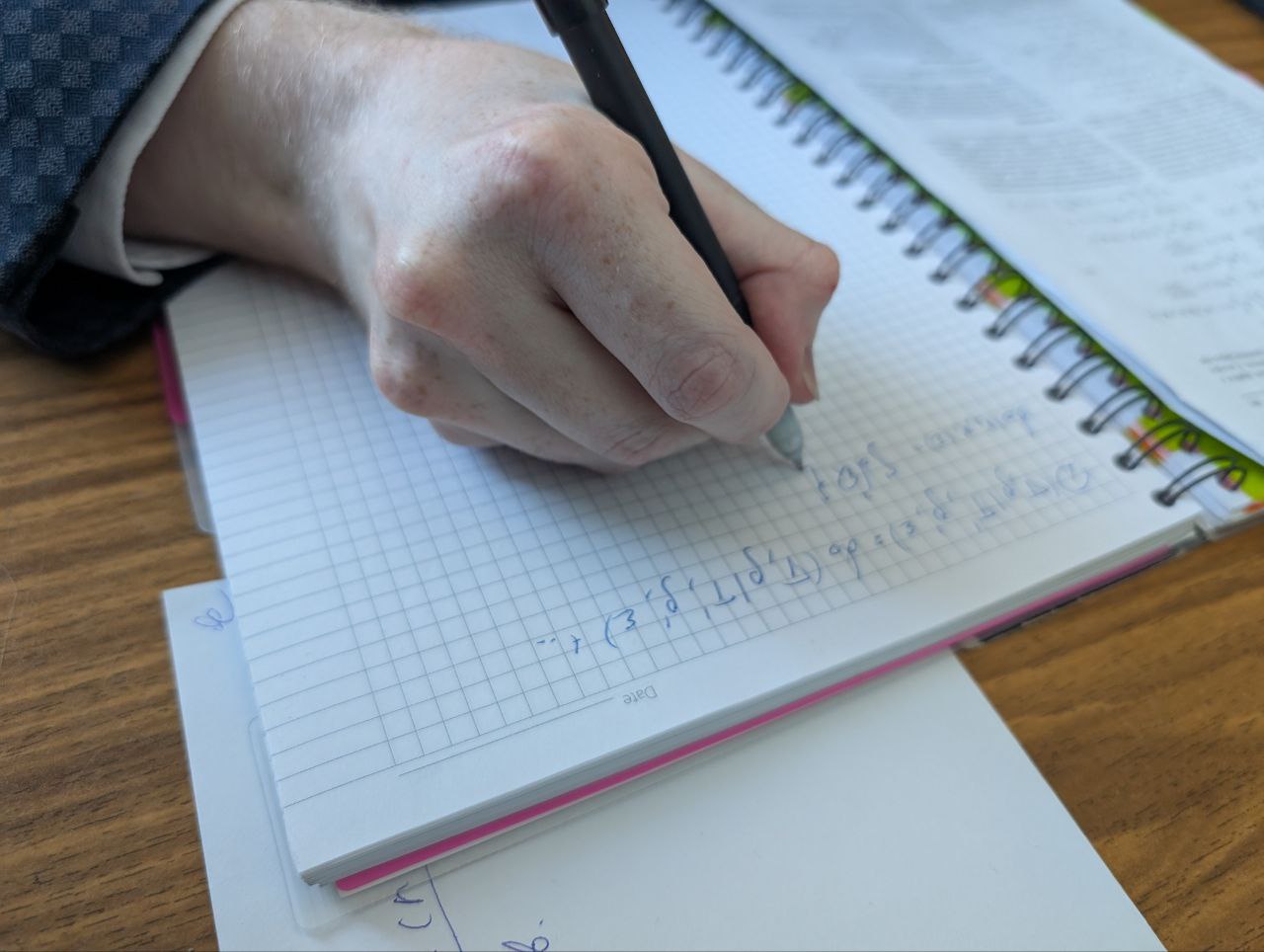
Что касается фундаментальной науки, тут я вообще не рискну что-то говорить, и вот почему. У физиков есть Стандартная модель – теория микромира, описывающая электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц, а у астрофизиков есть Стандартная космологическая модель. Вот в этой их теоретической конструкции есть Космологическая постоянная (лямбда), которая ответственна за темную энергию и ускоренное расширение Вселенной. До недавнего времени считалось, что эта лямбда была всегда одной и той же, но недавно появились новые данные, которые намекают на то, что, возможно, она не всегда была такой, как сейчас. Это пример того, что в любой момент может быть написана и опубликована статья, которая полностью изменит весь фундамент теории.
Что касается будущего теоретической физики, вообще ничего сказать нельзя – вполне возможно, что в данный момент кто-то пишет теоретическую работу, после публикации которой начнется новая научно-техническая революция. Это вполне возможно. Потому что идеи приходят спонтанно, и не всегда бывают вызваны какими-то резонансными экспериментами. Существуют давние проблемы, о решении которых может кто-то додуматься сейчас. И вот этот «кто-то», вполне возможно, опубликуется завтра. Но при всем при этом, вероятен и такой случай, что работа, опубликованная завтра, будет замечена только через 30 лет. Такое часто бывает, и причин тому множество, но значительная часть ответа на вопрос заключена в слове «преждевременно».
– Физика занимает важную часть твоей жизни и отнимает много времени, успеваешь ли ты заниматься чем-то еще?
– Помимо физики у меня есть еще одна страсть – академическая музыка. И любовь эта тоже возникла без всяких предпосылок. Я разбираюсь в музыкальных произведениях и люблю их слушать – мой любимый композитор Ференц Лист, обожаю и восхищаюсь им, я знаю историю и теорию музыки, но это все лишь повышает общую образованность. А вот расширить сознание (законными методами и без вреда здоровью) помогает обучение игре на фортепиано и, мне кажется, это может быть полезно людям науки. Музыка – это буст, толчок к всестороннему развитию человека. Когда пытаешься понять, как одновременно соотносить руки, или пытаешься постичь полиритмию – от этого просто кипит голова. Именно так выстраиваются новые нейронные связи, буквально происходит расширение сознания. Я относительно недавно купил себе фортепиано и начал учиться играть. Вдохновила меня Мария Александровна Тимофеева – преподаватель НГУ и ведущая пианистка музклуба НГУ, куда я хожу с первого курса. До полиритмии я еще не дошел, и вряд ли дойду, но ощущения, которые испытываешь в процессе, они бесподобны.
Подготовила Татьяна Морозова.
