«Я всегда сам себе на уме»
- 01.07.2025
Магистрант первого курса физического факультета Новосибирского государственного университета (ФФ НГУ) Александр Евдокимов приехал в новосибирский Академгородок из Иркутской области в конце 8 класса. Изначально мама отправила его в Летнюю школу (ЛШ) СУНЦ НГУ «на перевоспитание», чтобы молодой человек, расслабившийся в Усть-Илимской школе, привел себя в тонус и стал более усердным в учебе. Но потом Александр втянулся и уже по своей инициативе поступил на трехгодичный поток в ФМШ. Теперь Александр работает старшим лаборантом в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) в радиофизической лаборатории и занимается усовершенствованием линейки промышленных ускорителей ИЛУ. В 2024 г. за свою исследовательскую работу он получил стипендию им. А.С. Медведко – одну из именных стипендий, которые учреждены в Институте как мера поощрения талантливых физиков. В интервью молодой специалист рассказал о своем пути в науку.
– Как ты понял, что физика – это твоё. Расскажи, каков был твой путь в ИЯФ?
– Естественно-научные предметы мне нравились еще со школы, за исключением, наверное, биологии – к ней я как-то не проникся. Так что увлекался я всем подряд, но особой тяги к чему-то конкретному не испытывал: все получалось, все давалось легко. И, как часто бывает в таких случаях, в какой-то момент понял, что нет смысла учиться, раз и так все понятно – начал сильно расслабушничать. Первой это заметила мама и предприняла оригинальную попытку меня исправить – отправила из Усть-Илимска на лето в новосибирский Академгородок в Летнюю школу ФМШ. В ЛШ я очень хорошо понял, что нужно работать, что на одном потенциале можно вывозить программу только где-то на начальном этапе, а потом двигаться вперед можно только упорно учась (особенно в ФМШ). В общем, вся эта история меня пристыдила. Неожиданно, а особенно для мамы, потому что она этого не планировала, я поступил в ФМШ. Прошел по нижней границе, но попал. Позднее я узнал, как родственники уговаривали ее отпустить 15-тилетнего меня оканчивать 9-11 класс в Академгородке. Тяжело ей было. ФМШ я окончил хорошо, так мне кажется. Во всяком случае, если при поступлении я был в хвосте, то под конец выровнялся со всеми.
– Что ты запомнил о времени, проведенном в ФМШ?
– В основном, учебу. Уровень преподавания и сама образовательная программа в ФМШ сильно отличаются от того, что дают в обычных школах. А еще здесь учатся ребята с какими-то уже сформировавшимися интересами (насколько это вообще возможно в подростковом возрасте). У нас не было четкого деления на физико-математические и химико-биологические классы, поэтому я все равно долгое время не мог определиться, что мне нравится больше: физика, математика или химия. К тому же в какой-то момент у нас началось еще программирование, которое я тоже очень люблю.
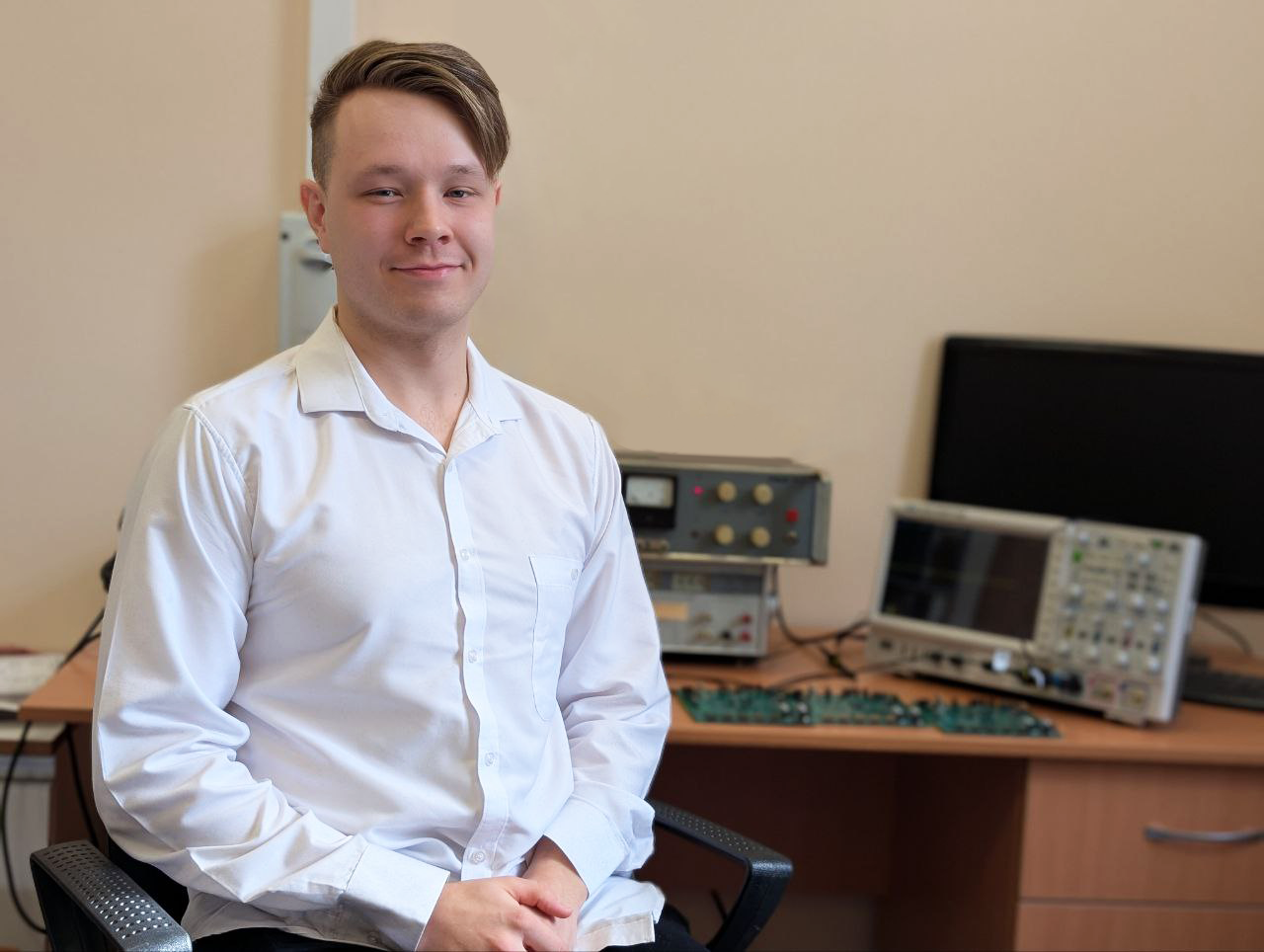
Старший лаборант ИЯФ СО РАН Александр Евдокимов. Фото Т. Морозовой.
Но на подростков очень сильно влияет харизма преподавателей. Поэтому велика вероятность, что школьник выберет физику, если ее вел харизматичный учитель. У меня были хорошие преподаватели по химии и по физике, и программирование мне нравилось само по себе, поэтому после ФМШ я сдавал пять ЕГЭ. Это больше, чем нужно, для поступления достаточно трех. Но так как я не знал до конца, какое направление выберу, решил подстраховаться и сдать все, что люблю. При этом определиться мне не помогли и полученные результаты – везде были средние и комфортные для поступления баллы.
И вот в очередной раз подумав, взвесив все за и против, решил, что если я пойду на химию на факультет естественных наук в НГУ, то потом переквалифицироваться в физика будет сложно. А если я выберу физический факультет НГУ, то в принципе, при большом желании, и в силу фундаментальности физики, химию будет проще понять. У нас в ФМШ так и шутили, что химия – это подраздел физики.
– Такого я еще не слышала.
– Конечно, это разные области знаний, но в них есть много одинаковых закономерностей. Но продолжая тему моих метаний, я понял, что уйти в программирование после физфака тоже не составит труда. В общем, я выбрал ФФ НГУ.
– Кому сложно учиться на первом курсе ФФ НГУ? И каково было тебе?
– Всем, кроме ребят из ФМШ. Но, как бы это ни было странно, они-то и вылетают чаще всего после первого курса. Преподаватели в школе часто рассказывали о случаях, когда фмшонок на первом курсе отдыхает, потому что, казалось бы, все легко, а на втором вылетает, потому что программа усложняется, а он уже привык не сильно напрягаться. Для меня первый курс тоже был легким, но тот урок, который я вынес, попав в Летнюю школу, я хорошо заучил, поэтому не расслаблялся, а работал. К тому же уже во втором семестре первого курса на ФФ начинают давать абсолютно новый материал, становится сложнее и оттого интереснее.
– Почему ты выбрал кафедру радиофизики?
– Когда пришло время выбирать кафедру, опять возникла та же ситуация, что и перед поступлением. Можно было выбрать химико-биологическую физику, можно было увлечься физикой элементарных частиц (это направление мне стало нравиться в ФМШ), и, что удивительно, в выборку попала и радиофизика. Я очень долго думал, ошибаюсь я или нет, но рискнул и выбрал радиофизику. И только ретроспективно я понял, что у меня всегда были предпосылки пойти в электронику: я и с транзисторами любил разбираться в 10 классе, и когда писал курсовую по промышленным ускорителям, я засматривался на все эти шкафы с электроникой. Но в явном виде мне это не помогло выбрать кафедру, потому что в тот момент я не понимал, что мне это нравится, только в последствии. Так что отчасти мне повезло сделать правильный выбор.
Не сразу я определился и с научным руководителем. Я вообще при выборе чего-либо обычно присматриваюсь, прощупываю почву так сказать, смотрю, что и где есть интересного, с кем можно поработать. Не всегда выбираешь правильно с первого раза, а найти подходящего научного руководителя тем более сложно. Не потому что их нет, их много, но вы оба должны подходить друг другу. С первым своим научным руководителем мы разошлись, а сейчас я работаю с Ш.Р. Сингатулиным. Когда пришел к нему сразу рассказал, что меня интересуют большие напряжения, большие токи.
– А чем интересны большие параметры? Какими-то приложениями?
– Знаете, есть люди, которые выбрали взрывную тематику, потому что им нравится все мощное и яркое. В моем случае, кажется, сработал тот же принцип. С маленькими напряжениями и маленькими токами мы сталкиваемся ежедневно, а мне хотелось чего-то более мощного. Сначала мне предложили работу, не связанную с какой-то конкретной установкой в ИЯФе, а более фундаментальную, если так вообще можно говорить про электронику. Нужно было сделать свой корректор коэффициента мощности, устройство, которое позволяет правильно брать энергию из электрической сети. Но так как у нашей лаборатории есть более близкие и горящие задачи, то дипломную работу я уже писал по другой тематике – по модернизации промышленных ускорителей ИЛУ.
– В чем заключается твоя научная работа по ИЛУ?
– Я оговорюсь, что я связан с промышленными ускорителями только в аспекте тех приложений, которые для них разрабатываю. Общие вещи, которые мне известны: в ИЯФе существуют два вида линейных промышленных ускорителей ИЛУ и ЭЛВ. Конструкции линейных ускорителей хороши тем, что при своей компактности установки могут выдавать большую энергию. Ускорители серии ЭЛВ работают на постоянном напряжении, а ИЛУ являются импульсными. Вот с импульсными линейными ускорителями я и работаю.
– Очень люблю названия установок в ИЯФ, аббревиатуры всегда расшифровывают заложенную в них технологию. ГДЛ (Газодинамическая ловушка), СМОЛА (Спиральная магнитная открытая ловушка).
– Ну, кстати, не всегда. Я встречал крейты, которые были произведены в советское время, они называются «Клюква» и «Вишня». Но они были засекречены, может быть, с этим связан выбор таких абстрактных названий. Или детектор КЕДР, это ведь просто сибирское дерево, никаких расшифровок.
Так вот, вернемся к ИЛУ, последние версии которых достигают энергии 10 МэВ. Чем выше энергия, тем лучше проникающие способности пучка электронов, а значит можно облучать более крупногабаритные объекты. Очень удобно и эффективно, например, для стерилизации медицинской продукции прямо в коробках, для полимеризации или деполимеризации разных полимеров за счет излучения, облучение кабелей. И в этом плане ИЯФ, если не впереди планеты всей, то в топе. Контракты у Института по всему миру.
Как все это работает: из ускорителя вылетает пучок, похожий на тонкую спицу, а нам, например, надо облучить продукцию шириной 70 см с медицинскими масками или шприцами. Соответственно, нужно добиться того, чтобы пучок распределился по всему объекту. За это отвечает магнит, который, создавая переменное магнитное поле, поворачивает и распределяет пучок. Система питания такого магнита в ИЛУ большая и сложная, поэтому появился запрос на ее модернизацию и удешевление. На данный момент мы придумал и просчитали новую компактную систему питания, и моя задача состоит в том, чтобы создать плату управления, на которой будет стоять микроконтроллер. И тут все сошлось в одно: и физика, и высокие токи, и программирование.
– Все, что ты любишь.
– Да.
– А в чем научная новизна этой работы?
– Научная новизна в том способе управления, который мы собираемся реализовать. То есть сам по себе он не нов, но на ИЛУ он будет использоваться впервые. Чтобы создать правильно меняющееся магнитное поле, которое будет равномерно распределять пучок по длине, нужно организовать линейно спадающий ток – так задача решается при первом приближении. И так она решается на ИЛУ сейчас. Но в реальности сделать магниты идеальными нельзя, поле тоже может быть неоднородным, поэтому на существующих версиях установок достигается равномерность распределения пучка 10%. Мы же хотим добиться 5% и меньше. Наша идея в применении широтно-импульсной модуляции, которая сделает форму тока не прямой, то есть мы сможем поменять ее так, чтобы она улучшила равномерность магнитного поля. Сделаем мы это с помощью четырех транзисторов, которые при правильном замыкании и размыкании будут подавать разное напряжение на магнитик и менять на нем форму тока. Такой подход конкретно в ИЛУ еще не использовался. И сложность тут в том, чтобы организовать такое управление. На данный момент выбраны материалы для такой системы управления, создана плата для нее, теперь надо написать логику управления, код для микроконтроллера. Это моя задача на год, примерно. В этом, кстати, специфика работы нашей лаборатории радиоэлектроники 6.0. – реализация идей, в которых совмещены инженерные и научные скиллы, требуют времени.
– Твоя коллега из радиофизической лаборатории 6.1 Ольга Волкова говорила, что кафедра радиофизики была не сильно популярна среди студентов. Но все изменилось, как ты думаешь, почему?
– Это правда. Очень долгое время она была не популярна, мало студентов выбирало ее. Мне кажется, что причина в том, что какое-то время в принципе в обществе инженерные специальности были не в почете. Сейчас как-то социум перестраивается, инженерные специальности снова в моде, соответственно, и кафедра набирает популярность. Наш курс, кажется, был первым за долгое время, кто обеспечил полный набор на кафедре и высокий средний бал. Отчасти это было из-за социального конструкта, а отчасти из-за специфики работы. Научная составляющая занимает здесь меньшую часть по времени, а большую – производство, создание экспериментальных образцов. Но именно это мне и нравится, потому что ты постоянно меняешь вид деятельности. Еще один плюс – всегда есть возможность сменить профиль и уйти в наукоемкое производство, в промышленность.
– Ты приехал из Иркутска, а ездишь ли домой? Набираешься сил у Байкала?
– Я только пару раз ездил за это время домой. Кстати, Иркутская область очень большая, на Байкале я был один раз всего.
– Есть ли у тебя кумиры в науке или люди, на чье мировоззрение ты опираешься?
– Нет, кумиров я себе никогда не создавал, и ориентиров тоже. Я всегда сам себе на уме.
– Какая твоя самая любимая электрофизическая установка, или на какой ты мечтаешь поработать?
– Я таким вопросам не задавался, но если тут неподалеку, то хотел бы посмотреть поближе установку БНЗТ. О ней много говорят, но я не видел. И мне интересно посмотреть на наши плазменные установки, я никогда их тоже не видел, но у них есть высоковольтные источники питания, еще и высокочастотные в придачу – было бы интересно поработать с такими.
Подготовила Татьяна Морозова
